Эпизод \\\\[137й]//// ПЕРЕВОСПИТАНИЕ

•>> Личное поручение капитана Мельникова
•>> Размандяй
•>> Капитан Хотеев (продолжение)
•>> К лебедям собачьим мою сдержанность!
•>> НШ аэ капитан Барановский
•>> Разговор в экипаже
22 сентября 1972 г. (пятница)
Мир принадлежит собакам!Из рекламы собачьего корма
Существует немало мрачных и раздражительных голов, которые радуются лишь тогда, когда находят зло там, где его нет.Жан Батист МАССИЙОН
Инструкторский «кубрик», который следовало убрать, был довольно обширный. Это была бывшая Ленкомната. На стенах висели хорошо выполненные стенды, плакаты, рисунки, фотографии.
«Инструментов» для уборки было немного, поэтому пока одни подметали, другие рассматривали стенды.
В комнату заглядывает комэск:
— Я вижу вам вчетвером здесь делать нечего! Один убирать туалет, другой – коридор! Двое здесь!
Посмотрев на меня, Мельников откровенно развеселился:
— Кручинин, ты сразу можешь идти в туалет! Прекрасная воспитательная работа! Пойдём, я покажу!
Мы зашли. Это были две небольшие смежные комнаты: первая – с двумя краниками и раковинами, вторая – с кабинками и писсуарами для отправления естественных надобностей. В углу стояло сверхпереполненное мусором ведро и куча мусора вокруг. В другом углу – такая же куча мусора, но без ведра. Пол, давно немытый, было очень напачкано.
— Вот твоё хозяйство! — улыбаясь «доброй» «отеческой» улыбкой, проговорил комэск и глянул мне в очи своими светлыми глазами. — Задача ясна?
Я кивнул:
— Ясна! — и улыбнулся ему в ответ!
— Ты смотри: он ещё улыбается!
Набираюсь наглости:
— А вы хотите, чтобы я заплакал? — и смотрю на него с усмешкой.
— Ну, давай!
Мельников ушёл, довольный собой, а я, постояв у окна, снимаю пилотку, повесил на ручку рамы курсантский кожаный ремень, закатил рукава и принялся за работу. Сперва всё тщательно вымел. Потом вынес мусор. Смыл грязь водой палубным методом, и, часто промывая тряпку, принялся за мытьё полов.
Вдогонку:
••>> Здесь обзовут тебя неряхой,
Сотрут достоинство и честь.
Но ты в душе пошлёшь их на х*й
И, как всегда ответишь «Есть!»
Военный фольклор
— Кручинин, почему ты такой размандяй?
В кабинке оправлялся по малой нужде высокий Бирулин, инструктор третьего звена. И почему-то считал нужным во время этого мероприятия затеять со мной разговор на воспитательную тему. Хорошо хоть не сел нахохлившимся орлом по большой нужде – вот бы поучительная беседа у него вышла!
«Размандяй»? Интересно, что он хочет этим сказать? Я промолчал.
— Слышишь, почему ты такой разгильдяй?
Дальнейшее молчание можно было расценить как вызов. И я ответил вопросом на вопрос:
— Какой?
— Ну, такой!
— Прекрасный ответ, товарищ старший лейтенант!
Снова воцарилось молчание. Он что, ждёт от меня оправданий: я не размандяй, я хороший?
Бирулин, закончив мочиться, вышел из кабинки, застёгивая ширинку. Подошёл к умывальнику и стал мыть руки.
— Ты смотри! У Хотеева везде есть знакомые и друзья – его бывшие курсанты, которых он учил летать. И в Чугуеве, и в Купянске…
Я молчал. Только сильнее стал выкручивать тряпку.
— Хотеев скажет, и ты даже на МиГ-17 не вылетишь! Тебя просто спишут по нелётности! Л-29 не в счёт! Не вылетел на боевом истребителе – лётчиком никогда не станешь!
Я разогнулся, посмотрел Бирулину прямо в глаза:
— За что? За что списывать-то?
— Ты… Так ты же размандяй!
— А что это значит? За моё поведение хоть раз наказали того же Хотеева, Трошина? За что меня списывать?
— Ну… Я не знаю… Все говорят!..
— Ах, все! Фактов никаких ни у кого нет! Но говорят все! Остроумно!
Я снова наклоняюсь, бросил отжатую тряпку на швабру и начинаю протирать пол, всё ближе подбираясь к ногам Бирулина.
— Товарищ старший лейтенант! Вы мне мешаете!
Бирулин выходит. А я, продолжая заниматься уборкой, погружаюсь в свои мысли.
«М-да! Хотеев может сделать такое… Что ему стоит? Интересно, какую он с Трошиным напишет мне лётную характеристику? Что там будет указано? Что я – наглый и нахальный?»
Но я себя таким не считал. И подумал, что это может быть смягчающим обстоятельством. А, возможно, они правы? Со стороны, как говорится, виднее?
Взять хотя бы тот случай на полётах с семечками, который так не понравился моему инструктору. Тот эпизод ведь именно так отложился у него в памяти. Командир экипажа тогда решил, что я нагло забирал семечки из сопла у солдат-техников. Хотя всё, конечно, было не так, как ему показалось. Семечек в сопле тогда уже не было, а в ту минуту я осматривал самолёт! А Трошин решил…
Господа, но! Выходит, на меня это похоже? На меня так можно подумать?
И плевать ему на то, что он не только реально сам отбирает те же семечки у солдат и курсантов! Чёрт его знает! Какая-то двойная мораль! Тебе нельзя брать из сопла чужие семечки (если б они там были!), а мне можно лазить по чужим карманам! Поэтому и укажет отрицательными те качества, которые имеет сам!
Так размышляя, я с ожесточением тёр ненавистный мне пол. И он понемногу стал оттираться, кафельная плитка становилась как новенькая.
Тут появляется Хотеев. Побрызгав в кабинке, он поворачивается и к выходу. Но потом останавливается передо мной. Я поднимаю глаза.
— Ни х*я тебя, Кручинин, исправить не может, кроме ох*енно-тяжёлого физического труда! И так будет, пока не поймёшь!
Я выпрямляюсь:
— Да? А что, собственно, я должен понять, товарищ капитан?
— Что курсант на земле должен быть кротким, как ягнёнок!
— Чёрт побери! — я не выдерживаю. Пусть пишет в характеристике, что я наглый, пусть! И я окрысился: — Что вы от меня все хотите? Я что, пью, гуляю, из самоходов не вылажу?
Хотеев опешил. Этой моей вспышки он сейчас не ожидал! Потом спокойно соглашается:
— Не пьёшь, не гуляешь. Но подзуживаешь курсантов против своих командиров!
— Когда? Кого? Да кто вам это всё нашёптывает! — я почти кричал: — Зачем мне это нужно? Чтобы вам об этом доложили? Ложь! Оговор! Враньё! Понятно? Или нет?
— А ты вспомни то ваше комсомольское собрание в Рогани! «Оговор, враньё, ложь»! Одно это собрание и твоё поведение на нём чего стоят!
— Ну и что? А что было плохого в том собрании? Кто вообще вам рассказал о нём, да ещё в таком свете? — я намерено допускаю паузу, а затем изображаю “божественное” озарение: — А-а! Галага! Вот кто вам это так рассказал!
— Нет. Я не помню уже, кто. Мамонов, кажется.
— Как же! «Мамонов»! Да Витька Мамонов сам выступал на том собрании! И он будет об этом рассказывать в отрицательном ключе?! Нет, товарищ капитан, так вам рассказал только Галага! Кстати о самом собрании! На нём комсомольцы говорили о поведении не только Ёсипова, но и Ласетного, Изюмова, Самойченко! И это, заметьте, при отсутствии офицеров! А почему о поведении курсантов на комсомольском собрании говорить можно, а о поведении старшины Ёсипова нельзя?
— А чем же вам, охламонам, не понравилось поведение Ёсипова? Он отличник, тянет на «Золотую медаль», порет вас, чтобы порядок был, чтобы дисциплина была!
— Во-от! Я же говорю, что вы ни черта не знаете! — я намерено ходил на грани. Наглый? Чёрт с вами, буду наглым! — Вашего любимого «медалиста» Ёсипова драли не за то, что он нас, как вы говорите, «порет»! Такие выступления некоторых курсантов, между прочим, были нами пресечены на корню и сразу! Ёсипову хотели вдуть за то, что он в самоходы ходит, что однажды опоздал из увольнения на два часа, за то, что вернулся в казарму из того увольнения в сиську пьяным – лыко не вязал! — тут я применил выражение Чайника. — За то, что пил именно в религиозный праздник, против чего начПО училища предупреждал всех курсантов перед увольнением! Потом несколько раз ваш «отличничек» ночью поднимался, ходил к дежурному по училищу, канючил, чтобы не докладывали начальнику училища утром!.. Что, Ёсипову можно жрать водку, а всем нельзя? Если он такой «требовательный» и «принципиальный», так что же он эту свою требовательность и принципиальность проявляет лишь к другим? Почему не к себе? Вот какая подоплёка была того собрания! Но Галага вам так не расскажет! Потому что тогда Кручинин будет выглядеть в хорошем свете! А Кручинина, «этого сраного интеллигента», по мнению Галаги, нужно гнобить! И он это делает вашими руками!
(О нашем комсомольском собрании см. Эпизод 16й «Гроза»)
Хотеев стоял и смотрел на меня широко раскрытыми глазами, постепенно становившимися круглыми, европейскими. Видно, что это для него было, чуть ли не откровением свыше.
— Товарищ капитан! Вы ведь этого ничего не знали, не так ли? По вашему виду вижу, что именно так! Нет, не Мамонов вам это говорил! И даже не Ёсипов, как я раньше думал, – не в его интересах вспоминать то собрание! Галага! Я эту гниду уже хорошо знаю! Он хочет, чтобы я был «его» человеком, чтобы по его команде кусал того же Ёсипова после того, как он с ним поцапается! Чтобы Ёсипову плохо было не от него напрямую, а от него, но чужими руками! А Румын будет стоять в стороне, лыбиться и злорадствовать: «Отомстил! Ах, какой я ловкий!» А я ничей человек, понятно? И не собираюсь ни нападать на других по команде «Фас!», ни вообще выполнять такие «по-ру-че-ния»!
— А зачем Галаге это нужно?
— Вот вы у него спросите! Интересно, что он вам на это ответит? Да потому что он – подонок и подлец! Если у меня улучшаются отношения с Ёсиповым, автоматом ухудшаются с Галагой. И наоборот, ухудшаются со старшиной – улучшаются с Румыном! И без всяких усилий с моей стороны. Ещё Галага вашими руками меня пригибает, чтобы я пил с ним, за водкой ему бегал! А если он попадётся, чтобы брал вину на себя и ему меньше досталось! Он и вам капает на меня, а, может, и на других – не знаю! – чтобы с одной стороны показать, что он – «ваш» человек, а во-вторых… Вспомните! Стоит вам меня похвалить перед строем, хотя бы за точное выдерживание режима в одном полёте, Галага тут же что-то «вспомнит» и сообщит, какую-нибудь мерзость про меня! — это я говорил навскидку, но по виду кэзэ вижу, что бью в точку. — Ну, например, что я кричал в казарме, что мне инструктор не нужен! Помните, вы мне в караулке намекали на это! А таких вскриков я не слышал ни от одного курсанта даже в шутку! А вы меня потом не спросите: говорил я такое или нет, было или не было! Вы ему верите априори! — от последнего слова обе ниточки брови Хотеева прыгнули вверх. — Думаете, если говорит вкрадчиво, если при этом в глаза ваши смотрит, то это правда? Эх, товарищ капитан! А я думал, что вы – тонкий психолог, в людях разбираетесь, курсантскую душу понимаете! Ни в чём вы не разбираетесь, никого вы не понимаете! Вас так легко провести и использовать в своих подлых интересах! Достаточно какую-нибудь низость про кого-нибудь сообщить, и этот человек для вас уже хороший! А тот, кого измазали дерьмом, плохой! Вы вроде как рады, что кто-то оказывается плохим! Почему? Да потому, что вы, товарищ капитан, курсантов… — и я тихо добавил: — ненавидите! Хотя сами вышли из них! Вы – хороший инструктор, отличный методист: быстро вы меня вывезли по кругам. А вот педагог, воспитатель, психолог из вас неважный!
Я делаю секундную паузу, чтобы дошло сказанное. Потом завершаю:
— Простите! Уж сказал, как думаю! К лебедям собачьим! Получу отрицательную характеристику? Теперь уже всё равно! Хоть буду знать, за что!
Хотеев действительно считал себя разбирающимся в психологии, и своей тирадой я бил ему прямо под дых.
— Извините, товарищ капитан! — я снова беру швабру. — Мне работать надо! А вы мне мешаете! — и тихо, как бы про себя, добавил: — Тоже мне, психолог! Едонта-шишь!
И делано усмехнулся, хотя на душе скребли кошки.
Давая понять, что говорить больше ни о чём не намерен, я принимаюсь за полы. Как там, в ГДР-ских фильмах про индейцев с Гойко Митичем, «Я всё сказал! Хао!»
Равиль потоптался ещё немного, повернулся на каблуках и, не сказав больше ни слова, вышел.
••>> — Надо признать, вы забавны.
— Вы меня тоже забавляете, Гордон. Вы неуправляемы и непослушны!
••>> — Значит, кое-кто кое-что упустил! И кое-кому должно быть стыдно!
••>> Не надо говорить, какой я плохой. Найди лучше и отъеб*сь!
«Ну, кто там ещё? Ещё один инструктор с каким-нибудь душещипательным разговором? Они что, сговорились сегодня – все меня воспитывать в сортире?»
Но на пороге была грузная фигура капитана Барановского (фамилия подлинная), начальника штаба нашей аэ, бывшего до недавнего времени лётчиком Роганского Ли-2, и прозванный острословами «Отец»:
— Убрал?
Я лишь киваю. Говорить ничего никому не хотелось. Я был зол на весь мир.
Складываю инвентарь в свободную кабинку. И подхожу мыть руки. Мыло долго не смывалось с рук – здесь, в Миргороде, очень мягкая вода.
«Отец» проходит во вторую половину, принимая мою работу.
— Хорошо. Этого порядка надолго здесь хватит! — Тут слышится его удивлённый присвист: — Фью-фью! Погоди, Кручинин, ты что, здесь один убирал? Ничего себе! А ну-ка… Ну-ка, вызови сюда Домкратова, Получкина, Байдакова и Паландина! Бегом! И сам сюда!
Я вытер руки платком и бросил его в урну-ведро. «Отец» проводил взглядом мой бросок.
Надеваю ремень, пилотку и выхожу.
Через три минуты перечисленные капитаном курсанты оказались в туалете.
— Так! Проходите! Да поаккуратнее, чёрт побери! Не по центру, а по краешку, у стеночки! Уважайте чужой труд! — гремит пропито-прокуренным лётческим басом Барановский.
Потом грозно осматривает прибывших:
— Кто сказал, что здесь хорошо убрать невозможно, потому что загажено? М-м-м? Почему Кручинин один смог навести порядок, а вы вчетвером нет?
«Потому что Домкрат и Получкин – штатные сачки, а Байдаков и Паландин не захотели за них пахать!» — хотелось мне вякнуть очевидное.
— Товарищ капитан, разрешите идти? — прикладываю руку к головному убору.
— Молодец, Кручинин. А мне говорили, что ты – разгильдяй!
— Это, наверное, говорят те, кто хочет во мне видеть разгильдяя! Или те, кто считает, что в туалете нельзя хорошо убрать!
От первой фразы на меня внимательно глянул Барановский, а от второй тут же зло зыркнули две пары колючих глаз – Получкина и Домкратова. Байдакова и Паландина это почему-то не взволновало.
Я ответил тем двоим полуулыбкой: мол, шучу я, шучу!
— Хорошо! Идите, товарищ Кручинин! Я комэске доложу!
Испаряюсь. А сзади продолжается порево:
— Я вас спрашиваю, по-че-му!..
Пока в казарме идёт уборка спального помещения, там появляться нельзя – тут же запрягут. Но и прятаться не хотелось. Надоело! Усаживаюсь в курилку перед самыми окнами казармы и расслабленно откидываюсь на спинку скамьи.
Мимо проходят хорошо выпоротые начштабом Байдаков, Получкин, Паландин и Домкратов. Последний, отвалив из этой четвёрки, присаживается рядом, делая вид, что ему покурить надо. На самом деле он просто не спешит на общественные работы, тянет время: а вдруг, пока он курит, там всё без него уберут?
— Чего это ты так расстарался в туалете-то? — спрашивает он, хитро прищуриваясь.
— Да вот пообещали за это сладкую конфетку!
В это время в окно выглядывает Вова Получкин:
— Эй! Домкрат! Алё! А ну, в казарму! Чего мы за тебя пахать здесь должны?
На этот раз ко мне Получкин почему-то не обращается.
— Сейчас иду! — вяло говорит Игорёк и обращается с поучениями: — Надо было, как мы, повозить тряпкой туда-сюда, вымыл руки и всё abgemacht¹!
— Да не догадался! Ведь тебя рядом не случилось!
Он, не спеша, докурил. Потом вяло поднимается и с явной неохотой входит в здание.
Получкин, как я заметил, мне ни слова, но, по-видимому, Галаге на меня в окошко указал. Тот выскакивает из подъезда моментально:
— Ты чего это, бл*дь, расселся! Ну-ка, давай, в казарму, помогай товарищам убирать!
— Щаз-з-з! — зло отвечаю я ему. — Валенки поглажу только!
И делано прикрываю глаза, давая понять, что разговор окончен.
— Я с тобой ещё поговорю! Потом! А сейчас – в казарму, быстро!
Продолжаю сидеть с закрытыми глазами, раздумывая: а не послать ли этого прохвоста незамысловато и легко просто на х*й? Боже, как этот ублюдок мне надоел!
Не знаю, чем бы кончилась наша перепалка, но тут из-за угла появляется капитан Барановский.
— В казарму, я сказал! — повышает голос Румын. — Вста-ать! Все убирают и ты должен быть с коллективом!
Чтобы, значит, и начальник штаба слышал, знал о его «требовательности» и «справедливости». Кручинин начнёт пререкаться – ему же хуже будет! Потом слова Галаги об этом курсанте на подготовленную почву лягут! А не станет Кручинин пререкаться, пойдёт пахать – тоже нормалёк: всё вышло по его, Галаге, приказу!
— Оставьте Кручинина в покое. Он свою работу сделал! — вступается «Отец» за своего блудного сына – что было, в общем-то, нетипично. Обычно офицеры предпочитают в такое не вмешиваться: не их же заставляют вкалывать!
— Товарищ капитан! Да там же работы полно! — тут же переключается на заискивающий тон Галага.
— Я говорю: Кручинин на сегодня свою работу сделал! Все бы так убирали, как он! Порядка было бы больше!
— Ладно! Отдыхай! — разрешает Румын, будто мне только его разрешения и не хватало!
— Да ты шо? Ну, спасибочко, отец родной! — хмыкнул я.
И меня пытаются испепелить молниями.
Оказалось, комэск был в казарме. Когда он вместе с Барановским выходил оттуда, я, застегнув подворотничок, подхожу к Мельникову. И, приложив руку к пилотке, без энтузиазма в голосе рапортую:
— Товарищ капитан. Ваше приказание выполнил…
Комэск улыбнулся своей великолепной улыбкой:
— Навёл порядок? Мне уже доложили! Молодец! Исправляешься!
«Да пошёл ты!»
••>> — Ты ведь сказал, что не будешь какое-то время работать!
— На этот раз я согласился!
— Думаешь, справишься?
— Посмотрим!
••>> Для кавалериста шпага – это искусство. Выжить, выжить – это долг солдата.
••>> С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной.
— Ну, давай, колись! Чего ты там такого Хотееву о Галаге понарассказал?
Я удивлённо посмотрел на Витюлю: откуда такая информация?
Виктор, не дожидаясь моего вопроса, поведал:
— Кэзэ вызвал Румына на улицу и так его еб*л, так еб*л! Галага вернулся в казарму, и у него верхняя губа была мокрой, как невыжатая половая тряпка!
«Убью гада!» — всё твердил он.
Журавель поинтересовался: в чём, мол, дело?
«Кручинин!.. Хотееву!.. На меня!.. Х*й моржовый! В Чугуеве из туалета не вылезет, ночевать там будет! Эта бл*дь интеллигентская ещё не раз пожалеет! Под “губу” подведу! Под отчисление! Спишут, как миленького!» — «Да что случилось-то?» — допытывался Птица. — «Ничего… Потом…»
Я мстительно улыбнулся, вживую представляя всю эту картину. «Потом» – ибо он ещё не придумал, что другим объяснять. Ничего, придумает!
Сейчас Журавель был дневальным, и за столом отсутствовал, поэтому не сможет передать всё слышанное своему приятелю Галаге. Вот я и решил, что будет нелишним изложить суть нашего разговора с командиром звена остальным моим товарищам по экипажу. И даже если Галага узнает всё, пусть! Пусть знает, что я знаю! И что его поведение для меня – не загадка! Не загадка оно, поведение, теперь и для Хотеева. На войне – как на войне!
И я вкратце поведал, как убирал туалет, как командир звена меня доёб*вал. Как я не выдержал. И что я ему ответил.
За столом воцарилась тишина.
— Румын стучит Хотееву? — ковыряясь в лангете вилкой, задумчиво проговорил Шурко и покачал головой. — А зачем ему это нужно? Сомневаюсь я! Он же сам подзалетел на пьянке!..
— А за что же тогда после разговора со мной Хотеев вызвал Галагу из казармы и еб*л его? — поднимаю я бровь. — За что Галага собирается меня «гноить», «подводить» да «списывать»?
Шурко молчал.
— Нет, Саша! После разговора со мной Хотееву стало ясно, что его просто водили за нос! А Хотеев такие вещи никому не прощает! Что касается Галаги… Потому-то он и стучит, чтобы «загладить» свою вину. И не столько стучит, сколько «освещает» всё в выгодном для себя свете. Где надо, сгустит краски, если чего-то не хватает – придумает! Просто ты с ним ещё не сталкивался!
— Юрик прав! — уминая котлету, промычал Витюля. Потом прожевался и продолжил: — Петро в Круче на аэродроме про него, — Самойченко кивает в мою сторону, — говорил кэзэ, что якобы Юрик кричал на всю казарму, что ему уже инструктор не нужен! А мы тогда всего лишь закончили полёты на простой пилотаж! Только-только в контрольных [полётах] приступили к сложняку, впереди было обучение полётам в составе пары, по маршруту и т.д. Как же без инструктора? Ты слышал, чтобы кто-нибудь такое у нас говорил? Нет! Вот и я не слышал! И никто не слышал! А Румын, выходит, слыхал, что кричал Кручинин! И доложил об этом «неслыханном» случае кэзэ. А тот поверил!
Я горько усмехнулся: мои догадки тогда, в Круче, подтвердились. Это был именно Галага! Всё-таки я его вычислил! Профи!
А Передышко удивлённо взглянул на Сэма. Тот, не дожидаясь, вопросов, пояснил:
— Кое-кто тогда неподалёку стоял от Хотеева с Галагой и всё слышал. Потом мне рассказал… Какая разница, кто? Хотеев пообещал такого курсанта, который летает без году неделя, но которому «инструктор уже не нужен», в бараний рог свернуть!
Я поднимаюсь и иду к столу у стены – взять чайник.
«Вот потому-то меня и порют все, кому ни лень! Кто это может быть – “кое-кто”, слышавший всё? Белуга, Котиевский? Эти, конечно, мне ни за что не сказали бы!»
Потом возвращаюсь и разливаю всем чай по стаканам.
— Юр, сюда чайник передай, пожалуйста! — просит за соседним столиком Женя Щербаков.
— Женя, ты, наверное, умер бы от жажды, если бы не я! Лентяй несчастный! Нет, чтобы самому сходить за чаем и нам принести! — бурчу я.
— Слышал, слышал о твоих трудовых подвигах! Говорят, уже подписано представление тебя на Героя соцтруда! — балагурит Щербаков.
— И этот подъёб*вает! Сейчас сам за чайником побежишь, ленивец ты наш! Или от засухи завянешь!
Передаю чайник.
— Спасибо, поилец ты наш старательный! Ай! Чего не сказал, что горячий? — и, принимая чайник из моих рук, продолжает: — А кто же тогда о твоих трудовых туалетных свершениях молодому поколению рассказывать будет?
Я возвращаюсь на своё место.
— Ты знал о том разговоре Галаги и Хотеева и не поделился? — спрашиваю у Витюли.
— А чтобы ты сделал?
— Ничего, — медленно говорю, размешивая в стакане опущенный кусочек сахара. — Но сказать надо было! Тогда бы, по крайней мере, я не изумлялся, когда Равиль мне об этом спросил в караулке! Кстати, это слышали Журавель и Ласетный, можешь, Шурко, у них спросить! Видишь, с какой стороны человек может открыться! А ты говоришь, «Румын не может стучать»! Может! Ещё и как может! И не такое может! И чем больше он подзалетит на своих пьянках, тем больше идёт информации наверх о нашем поведении. Даже о том, чего не было. Чтобы показать своё старание и свою незаменимость на должности командира отделения!
Мы помолчали.
Передышко, взяв подстаканник не за ушко, а снизу за донышко, задумчиво поднимает стакан на уровень глаз и, как фармацевт, рассматривает чай на свет. Потом прищурился и, решив, что сие вполне можно употребить, неосторожно много отпивает содержимое из стакана. Горячая жидкость обожгла ему губы.
— Бл*дь! — выругался он.
Мне показалось, Саша всё же не разделяет моих воззрений. Как всякий порядочный человек, он не верил в непорядочность другого. Даже очевидную. Пока сам с ней не столкнётся.
— А вообще, Галага – не стукач, он… он – просто подонок! Если будет выгодно, Румын и про тебя что-нибудь придумает, не зависимо от того, было это или не было, пил ты с ним в кустах или нет!
Я делаю несколько мелких глотков несладкого чая, отставляю стакан, поднимаюсь из-за стола:
— Кто хочет, можете взять мои масло и оставшийся сахар! Я не буду!
— Иди, иди! Не пропадёт! — улыбается Сэм, побыстрее запуская лезвие ножа в мой кусочек масла.
А я выхожу.
Сейчас без меня Шурко, наверное, спросит у Витюли, зачем он о том, слышанном разговоре Хотеева и Галаги мне рассказал…
Inter nos dictum est²
— Очевидно, товарищ Спицын, у вас своя общественность! А наша общественность ничего плохого об Анохине сказать вам не может!
— Понятно! Ну что ж, поговорим в другом месте!
— Я вижу, вы только этим и занимаетесь!
— Вот и я о том же!
— Ты хочешь, чтобы я покричал на него? Ну и какого чёрта это даст? Что, он запрыгнет в машину времени и всё исправит?
— Когда собака гадит на пол, ты что, гладишь её по голове и хвалишь? Нет, ты хлопаешь её газетой по носу!
— Собаку можно научить, Хауса – нет!
— Трус!
— Ребёнок!
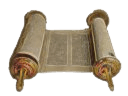
_____________________
¹ Abgemacht (нем.) – решено, кончено, по рукам.
² Inter nos dictum est (лат.) – между нами будь сказано.
